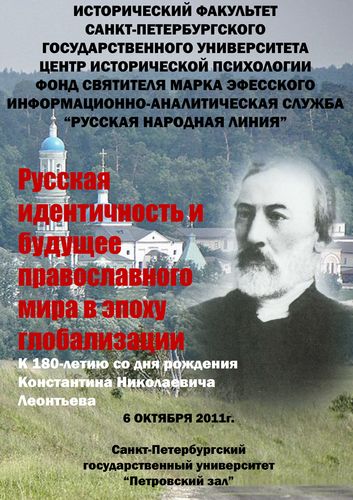
Уважаемые участники конференции,
хочу сразу предупредить, что мой доклад будет носить одновременно констатирующий и отчасти прогностический характер. Дело в том, что само имя К.Леонтьева настраивает на жанр предупреждения, по принципу: предупрежден - значит вооружен. Константин Леонтьев, без сомнения - участник суда истории, и даже, в определенном смысле, формулирует приговор этого суда, но главным образом и прежде всего - он предсказатель нашего времени. Какой бы аспект многообразного наследия Леонтьева мы ни взяли - религиозный, культурный, политический - всюду мы сегодня видим, что он был прав, или, по меньшей мере, не слишком ошибся в прогнозе. Начнем с последнего - с культурно-политического.
Вопреки распространенному мнению, Леонтьев не был славянофилом - он был прежде всего христианским православным мыслителем. Если поискать, у него можно найти даже похвалы католическому Риму за «выделанность формы», а по поводу западных славян выражения типа «на кой черт нам эти чехи?». Тут, конечно сказывается леонтьевский эстетизм, сидящий у него в крови, однако нет ничего ошибочнее, чем называть Леонтьева «русским Ницше»: Ницше пришел к «белокурой бестии» и безумию, а Леонтьев кончил тайным постригом в монахи. В основе мировоззрения Леонтьева лежит золото православной веры и построенной на ней монархической идее, он знает и любит ее, он любуется ею как историк-художник и ценит её как социальный мыслитель. Подобно патриарху Никону, Леонтьев в своих религиозно-политичских идеалах был «грек» и ценил в наследии Второго Рима прежде всего строгость и одухотворенность общественной формы. «Византизм дал всю силу нашу в борьбе с Польшей, шведами, с Францией и Турцией. Под его знаменем, если мы будем верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости».
Как видим, у Леонтьева, по существу, сходятся коренные мировозренческие линии Пушкина и Киреевского, Данилевского и Тютчева. Даже с Чаадаевым у него есть общая точка - жгучий интерес к Европе, только с обратным знаком. Чаадаев восхищался Европой, Леонтьев проклинал ее, но оба они были русскими людьми, создававшими собственный религиозный миф о Западе - «стране святых чудес». Если говорить о формальном влиянии, что наибольшее воздействие на образ мыслей Леонтьева оказал Данилевский, а также Герцен (своими статьями о мещанстве как последнем слове европейской цивилизации). Для Леонтьева как аристократа-эстета непереносима картина всеобщего смешения и упрощения жизни под властью буржуазно-демократической черни. Кроме того, несмотря на позднейшую критику, Леонтьев очень близок Достоевскому в обличении современного Ваала. Но есть и различия; Леонтьеву нужна прежде всего человеческая (в том числе социальная) красота, ради которой он готов пожертвовать почти всем. В этом пункте мы, несомненно, встречаемся у него с абсолютизацией формы (деспотизмом формы, как говорит он сам) - почти как у старообрядцев. В известном отношении можно сказать, что Леонтьев - это русский старообрядец, волею судеб заброшенный куда-нибудь в чудовищный новый Вавилон-Лондон, как он описан Достоевским в гениальных «Зимних заметках о летних впечатлениях». Красота православия вошла у Леонтьева в противодействие с нисходящей энергетикой новоевропейского индивидуализма и декадентства: «цветущая сложность» классики встретилась с «вторичным упрощением» заката Европы.
Однако не в этой циклической схеме развития мировых цивилизаций заключается ядро леонтьевской мысли. Как раз напротив - его мысленные стрелы направлены против этого закона. Как человек, гражданин и писатель, он делал все, что мог, чтобы нарушить этот закон - по крайней мере, для России. В отличие от старших славянофилов он видел, что Святая Русь уже находится в смертельных объятиях «либерально-эгалитарного прогресса»: «Революция, ассимиляция, эгалитарно-либеральный прогресс - все это для меня разные названия одного и того же процесса. Этот процесс, если он не приостановится и не возбудит наконец крайностями своими глубочайшего себе противодействия, должен рано или поздно не только разрушить все ныне существующие особые ортодоксии, особенные культуры и отдельные государства - но, вероятно, даже уничтожит и само человечество на земле, предварительно сливши, смешавши его в более или менее однородную, более или менее однообразную социальную единицу. В однообразии - смерть». Интересно, что сказал бы Константин Николаевич, если бы увидел современный мир (от Бостона до Калькутты и Петербурга), одетый в одинаковые джинсы и смотрящий одинаковое телевидение? Именно отсюда ожидал Леонтьев появления «последнего человека» - «среднего европейца как идеала и орудия всемирного разрушения». Как философ и культуролог, Леонтьев не боялся называть вещи их именами. Если идеалом христианской жизни провозглашается святость, а не комфорт, то надо и жить в соответствии с идеалом, а не юлить перед Творцом. «Христианские святые были и при турках, а при бельгийской конституции не будет и преподобных», - вот одновременно тревога Леонтьева и его ответ на вопрос «что делать?» Если все будет идти так, как идет, то западная цивилизация быстро придет к концу, к духовной смерти, хотя внешне будет казаться, что она процветает. Почти теми же словами современный Запад охарактеризовал в 2002 году кандидат в президенты США Патрик Бьюкенен в своей книге «Смерть Запада), Леонтьева, скорей всего, не читавший. Можно тут вспомнить и Льва Толстого (которого Леонтьев превозносил как романиста и презирал как проповедника), спрашивавшего примерно в те годы: железные дороги - чтобы ездить куда? телеграф - чтобы передавать что?
Как я уже отметил, К. Н. Леонтьев, в отличие от старших славянофилов, не абсолютизировал Россию (правду сказать, и те видели ее грехи). Наряду с этим, в сочинениях Леонтьева содержится такая «программа» защиты Святой Руси (вопреки гибельному скольжению Запада), какая и не снилась его предшественникам. Конечно, устами Леонтьева глаголет опыт почти всего петербургского периода русской истории; более того, в его лице православный инок (т. е. человек иного пространства-времени) сталкивается с социально-политическими и культурными нормами буржуазного «полусвета». Я приведу сейчас цитату из его работы «Над могилой Пазухина», в которой этот удивительный мыслитель предлагает свой план спасения Руси от антихриста путем соединения православной монархии с платоновским идеальным коммунизмом (заметим, что написаны эти строки за несколько месяцев до смерти, в 1891 г.): «Для задержания народов на пути антихристианского прогресса, для удаления срока пришествия антихриста (т. е. того могущественного человека, который возьмет в свои руки все противохристианское движение) необходима сильная царская власть. Для того же, чтобы эта царская власть была долго сильна, не только не нужно, чтобы она опиралась прямо и непосредственно на простонародные толпы, своекорыстные, страстные, глупые, подвижные, легко развратимые; но - напротив того - необходимо, чтобы между этими толпами и Престолом Царским возвышались прочные сословные ступени; необходимы боковые опоры для здания долговечного монархизма <...> Вот прямая и откровенная постановка государственного дела, без всяких лжегуманных жеманств <...>
Но сила Божия и в немощах наших может проявиться!
И недостатки народа, и даже грубые пороки его могут пойти ему косвенно впрок, служа его исправлению, если только Господь от него не отступит скоро.
Чтобы русскому народу действительно пребыть надолго тем народом - «богоносцем», от которого ждал так много наш пламенный народолюбец Достоевский, - он должен быть ограничен, привинчен, отечески и совестливо стеснен (отметим почти дословные приближения Леонтьева к «Слову о Законе и Благодати» митрополита Илариона. - А. К.). Не надо лишать его тех внешних ограничений и уз, которые так долго утверждали и воспитывали в нем смирение и покорность. Эти качества составляли его душевную красоту и делали его истинно великим и примерным народом. Чтобы продолжать быть и для нас самих с этой стороны примером, он должен быть сызнова и мудро стеснен в своей свободе, удержан свыше на скользком пути эгалитарного своеволия. При меньшей свободе, при большей серьезности будет гораздо больше и того истинного достоинства и смирения, которое его так красит.
Иначе через какие-нибудь полвека (! - А. К.) не более, он из народа «богоносца» станет мало-помалу, и сам того не замечая, «народом-богоборцем», и даже скорее всякого другого народа, может быть. Ибо действительно он способен но всем доходить до крайностей... Без строгих и стройных ограничений, без нового и твердого расслоения общества, без всех возможных настойчивых и неустанных попыток к восстановлению расшатанного сословного строя нашего - русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и - кто знает? - подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой Веры, - и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр, сперва бессловных, а потом бесцерковных или уже слабо церковных - родим только самого антихриста.
Как оценить приведенные мысли Константина Леонтьева? Во-первых, в полном согласии с православной верой он высшими достоинствами христианина признает терпение и смирение (а не своеволие и гордыню - люциферианские силы); во-вторых - опять-таки в полном согласии с учением Святых Отцов - страдание для него само по себе не есть зло, а, наоборот, путь к очищению и победе над грехом. Зло как таковое - это самоупоенная воля, направленная против Господа и заповедей Его, и вот как раз в таком направлении мировой (прежде всего западной) воли видел этот тайный монах огромную опасность для человечества. Подобно Платону, изгнавшему в свое время либералов (и прежде всего «свободных художников») из своего идеального государства, Леонтьев хотел охранить, удержать Русь на краю падения в пропасть - и для этого немного «подморозить» ее. Крепкие общины, устойчивые промежуточные слои между народом и царем - вот на что рассчитывал «византинист» Леонтьев и советовал для этого прибегнуть к своего рода «тройственному союзу» между самодержцем (носителем и защитником православия), его непосредственными слугами («стражами», проводниками монаршей идеи в жизнь) и простым народом. Если бы последние русские императоры тверже следовали его советам, возможно, мы не пережили бы трагедии 1917 г. Однако Бог судил иначе...
Подводя итог, скажем, что Константин Леонтьев мыслил Русь (и мир) в отчетливой эсхатологической перспективе. Петербургская Россия подошла в концу XIX века к жесткому выбору - либо со Христом, либо в бездну (и еще быстрее других, как справедливо предупреждал Леонтьев). Леонтьев предсказал катасрофический, богоборческий предел апостасии на Руси - в отличие от теплохладного Запада, для которого католичество и протестантство сослужили неплохую амортизационную службу (смягчили, «инкультурировали» удар антихриста). Правда, он же подчеркнул, что эта катастрофа принесет мученический венец за Христа тем, что останется ему верен. Не будем сейчас придираться к частным недостаткам религиозно-философской позиции (обвинение Достоевского в «розовом христианстве» и т. п.), равно как и придавать слишком большое значение упрекам Леонтьеву со стороны таких разных авторов, как, например, о. Г. Флоровский или Н. А. Бердяев. И тот и другой согласно находили у Леонтьева разрыв со святоотеческой традицией, метафизический испуг. Я рискну утверждать, что Леонтьев просто дальше других русских мыслителей Х1Х века заглянул в будущее - и поразился.
В качестве вывода предложу следующее:
1. Прежде всего, как я уже сказал, мы должны признать, что в ХХ - начале ХХ1 века сбылись практически все пророчества К.Леонтьева, вплоть до европейской атеистической революции (первая и вторая мировые войны), атеистического социализма в России и подготовки ныне - прежде всего в так называемых развитых странах - решающих нравственных условий для прихода упомянутого «могущественного человека». Можно также спорить об эволюции русского коммунизма от открытого богоборчества ленинского образца к империи Сталина и Церкви во главе с патриархами Сергием и Алексием. Свидетельством глубокого разногласия по этому вопросу является разделение когда-то единой «Русской линии», однако нельзя отрицать предсказанного Леонтьевым первенства России в «дохождении до края» на пути этого метаисторического эксперимента. Впрочем, как замечено, сила Божия и в немощах совершается. Именно в псевдоморфозе коммунистической империи православно-русская цивилизация спасла мир от самой страшной антихристианской силы, угрожавшей миру (оккультного нордическоге рейха) и первой вышла за пределы земного притяжения.
2. Если мы хотим быть верными памяти нашего великого мыслителя, мы не должны зарывать голову в какой-либо песок (в том числе и в песок «розового» христианства), называя вещи их собственными именами. Последняя книга Нового Завета называется «Апокалипсис», и все знают, что там написано. Молочных рек в кисельных берегах в конце истории нам никто не обещал, а технический прогресс нашего времени, построенный на песке нравственного нигилизма и пошлейшего прагматизма, в любой момент грозит взорваться тем или иным кризисом, и никогда нельзя поручиться, что он не будем последним. Главный кризис, собственно, уже произошел: на философским языке он называется постмодерном, который окончательно («по совести») попрощался с разделением добра и зла в религии, культуре и политике. В некотором смысле конец культуры, философии и искусства уже произошел, только не все это заметили.
3.Быть русским в ХХ1 веке означает понимать, что Россия - это одно из последних мест на Земле, где ещё продолжается борьба против названного Леонтьевым «могущественного человека», и принять в ней сознательное участие. В этом и состоит смысл русского будущего. То же самое касается и «заграничных» русских, если они остаются русскими. Главный вызов русской идентичности - духовное (и, как следствие, социальное и биологическое) растворение русских среди нехристианских и постхристианских народов, обладающих на сегодняшний день рядом прагматических преимуществ, прежде всего финансово-информамционного порядка. Однако пути метаистории неисповедимы, и недавнее решение нашей правящей иерархии о фактическом возврате к монархическому принципу передачи власти свидетельствует, что идея народной монархии (при всех оговорках относительно её буржуазного характера в нынешних условиях) на Руси окончательно ещё не умерла: народ, я уверен, проголосует за «царя-президента» Путина.
4. Если антихристианская и нехристианская (постмодернистская) глобализация будет продолжаться теми же темпами и в том же направлении, то в перспективе, как ни тяжело это признать, православно-русской цивилизации, возможно, придется трансформироваться в практиках скрытой («катакомбной») Церкви и сопутствующих ей социокультурных отношений. Я не касаюсь в данном случае возможности прямого божественного вмешательства - это было бы прямым чудом, а чудо механизма не имеет. Однако Бог поругаем не бывает, и при любом финале глобалистской драмы около Него останется остаток (в том числе «русский остаток») верных, ради которых, возможно, и затевалась мировая история.
Александр Леонидович Казин, доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения (Санкт-Петербург, Россия)































2. Обычные стихи...
1. В другое направление.