
От редакции: Эту статью Андрей Рогозянский предложил для публикации сначала сайту газеты «Татьянин день», где и была опубликована анализируемая им статья Владимира Гурболикова.
Как сообщил нам автор, редакция ТД статью приняла, одобрила и ...не опубликовала. Непонятно: то ли испугался ТД репрессий со стороны Синодального информационного отдела, то ли решили не публиковать из соображений корпоративности и партийности. Как бы то ни было, мы все получили наглядный урок того, как выглядит «безпристрастность и непартийность» нашей нынешней церковной журналистики. Но не беда. На «Русской народной линии» ведь все равно все, кому нужно, прочитают эту статью Андрея Рогозянского.
* * *
Первая реакция на материал В.Гурболикова, посвящённый критике журнала «Благодатный огонь», - ощущение диссонанса. Несколько позже понимаешь: главная пикантность в том, что ситуация касается не кого-нибудь, а Володи Гурболикова...
Сотня человек, возможно, могла высказаться на данном месте, как отрезать. Но христианнейший Гурболиков, который из голубя превращается в ястреба, пышет упрёками и, по крайней мере, три раза на страницу не произносит сакраментального: «да простят меня мои братья во Христе», - это воистину нужно видеть... Явление само по себе знаменательное и заслуживающее, чтобы о таковом думать и говорить. Так что со всеми нами происходит, в самом деле? Главред «Фомы» - пример во многом уникальный. Интроверт в журналистике, анархист в бурной молодости, для меня он всегда был примером парадокса, соединения силы и немощи, деятельности, совершаемой как бы исподволь и поневоле. Как человек непубличный, всегда избегал споров и чурался собраний «больше 50 человек», в которых «сразу начинает кружиться и болеть голова», легко уступая первенство и известность своему более честолюбивому собрату. Во всех рассуждениях - словно бы опаска оступиться. Особая дребезжащая, самоукоряющая интонация. С чьей-нибудь точки зрения, нарочитая и слезливая. Общая с Максимом Яковлевым и позже подхваченная Сашей Ткаченко, ставшая, если не визитной карточкой, то одним из характерных свойств «Фомы». Когда в начале 2008 г. разбился Бачинский, Володя воспринял это так близко и так терзался решением урезать текст последнего журнального интервью, что казалось невероятным, чтобы человек с такими оголёнными нервами нес бремя постоянной медиа-активности. Хотя, кому из смертных дано знать времена и сроки? Интервью же, правду сказать, оставляло желать много лучшего.
И вот, проведя десятилетия в размышлениях по поводу проблем журналистской этики и поседев в них, Владимир Александрович не находит ничего иного... да-да, не удивляйтесь - как призвать всю мощь административного ресурса! Тупик и обрыв, которые сами по себе могут сказать о многом, являясь, на мой взгляд, в истории с «Благодатным огнём» подтверждением некой более общей печальной тенденции. У Владимира Высоцкого есть строка: «Я ненавижу сплетни в виде версий». Но и Высоцкий с его диссидентскими куплетами выбирается Гурболиковым не от добра, а от какой-то потери происходящего. Так и хочется ответить на один диссидентский куплет другим диссидентским куплетом, припомнив собаку, которая бывает кусачей, но только от жизни собачьей. В первом, экзистенциалистском «Фоме» на повестке стояла «слезинка ребёнка». В последнем же акте трагикомедии можно реветь сивой белугой и испускать потоки слёз - ни один нерв не шевельнётся, ибо доподлинно известно: ружьё в виде соответствующих административных механизмов обязано выпалить, не зря оно вешалось на сцене; ничего же, кроме палить, ружьё, к сожалению, не умеет.
Я не имею нужды защищать «Благодатный огонь», не вхожу в число его авторов и даже в круг его постоянных читателей. Есть тема ответственности редакции, в данном случае, редакции «Благодатного огня». Есть не менее сложный вопрос о том, в каких границах Информационный отдел собирается применять свои санкции. Сейчас я бы предпочёл думать о втором. В другой раз, не в качестве эпитафии, я с удовольствием прочту разбор В.Гурболиковым слабых сторон чьей-нибудь редакционной политики.
В конце концов, провести однозначную причинную связь между утверждениями: «Я не согласен с подачей фактов в «Благодатном огне»» и ««Благодатный огонь» нужно закрыть», - тоже дело нехитрое и похожее на то, что сам В.Гурболиков определяет понятием «манипуляция сознанием». Информационный отдел воистину превзошёл самого себя. Если многие выражали недовольство «Благодатным огнём», то мечтал о «закрытии благогона» до сих пор разве что Кирилл Фролов. Простота вещей идеально подходит для ковбойских боевиков и колониальных кампаний. Плохие парни Билл, Муаммар или Саддам настолько «достали», что хорошие парни имеют полное моральное право выдернуть из кобуры кольт и нажать спусковой крючок. Для остальных жизненных ситуаций решение о применении силы выглядит куда более сложным. Этическая философия Гурболикова - не вестерн, конечно, но и не слишком далеко ушла от него. «Должен ли человек, ответственный перед Церковью, возражать против такого...?», - спрашивает он и отвечает утвердительно. Автору как бы невдомёк, что право сильного может накладывать свои моральные ограничения, а «возражать» по-христиански и по-человечески и «возражать» с применением должностных возможностей - это не одно и то же. Иначе, машинисту метро, который везёт В.Гурболикова, можно в любой момент, «возражая», остановить состав посередине тоннеля, а танкисту - начать греть двигатель своего танка.
Другой вариант: кто-нибудь станет решительно возражать против редакционной политики журнала «Фома». Тем не менее, в отличие от журнала «Благодатный огонь», в результате собирания досье на журнал «Фома», журналу «Фома, скорее всего...ничего не будет! Асимметрия возможностей явно бросается в глаза. Мнение с одной стороны, сколь бы ситуативным и проблематичным оно не являлось, всегда готово получить преимущество в официальной позиции, мнению же с другой никогда не выйти из положения частного, субъективного лепета. Сама эта асимметрия искажает видение и мешает прояснению истины в разных вопросах. Поневоле, по факту своего существования истеблишмент формирует особенную уверенность и фундаментализирует всё, с собой связанное. Поэтому при чутком руководстве из всех сил стараются не затоптать слабых ростков инакомыслия, не в смысле диссидентства, но предложений и подходов «другого розлива, не этой бадьи» - лишённых внутрикорпоративной унификации. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, что у Информационного отдела этого не получилось. По тону выступлений отчётливо ясно, что невыдача грифа «Благодатному огню» есть прецедент, настоящего значения которого там ещё так и не осознали. Смею предположить, что, в свою очередь, излишне резкая тональность материалов «Благодатного огня» проистекает во многом из упомянутого отъединения.
Натужно смотрится другой посыл Гурболикова: мол, для «Благодатного огня» ничего не стоит учесть критику, изменить образ и войти в ту же реку повторно. В действительности, будем откровенны: никто на сегодняшний день не поручится за то, что издание сможет пережить отказ в лицензировании, массированную волну критики, а редакция восстановит работоспособность после, скажем, годичного перерыва. Как главе большого коллектива и ответственному за действие постоянного издательского конвейера, Владимиру Гурболикову это должно быть понятно более, чем остальным. Для тематической церковной периодики, сходной с «Благодатным огнём», запрет на распространение смерти подобен! Но штука в том, что ни у В.Гурболикова, ни у Н.Шапорева, выступавшего ранее от имени Информотдела, нигде нельзя встретить сопереживания за судьбу издания. Не выражено даже единственной, дипломатической формулы по поводу желательности его сохранения. Общение укладывается в классическую бюрократическую схему: «вопросы задаю я» и «остальное - ваши проблемы». Рискну предположить, что, если «Благодатный огонь», не дай Бог, канет в лету, то с функционерской точки зрения от этого станет Только Лучше. Известно же: есть журнал или человек - есть проблема, нет журнала или человека - нет проблемы... Здесь я это говорю для того, чтобы каждый мог сравнить повседневное кредо с возвышенной риторикой. Налаживание мостов в подобном положении для «Благодатного огня», равно как и для других потенциальных отказников, становится делом весьма и весьма невероятным. О качестве же цензуры и будущем структуры, исполненной благих намерений, остаётся умолчать. Последствия первой открытой манифестации властных полномочий и корпоративной солидарности наверняка не замедлят сказаться.
Не думаю также, что Владимир Гурболиков верит в строгую безоценочность, внеидеологический и фактологический характер одних изданий, на фоне, как он выражается, сплетне-версий и обвинительной футурологии других. По мне, так исповедание кого-то внутри Церкви маргиналами, с «неразвитостью интеллектуальной деятельности головного мозга, компенсируемой многоразличными психическими явлениями» (свящ. А.Васютин, ОВЦС) ничуть не лучше исповедания оными своего священноначалия модернистами. Честно сказать, от лица Володи Гурболикова я бы хотел услышать пламенную отповедь о. Г.Митрофанову как автору афоризма: «Советую обратиться к психоаналитику на предмет скрытого садомазохизма». До сих пор журнал «Фома» устами другого интересного автора, о. П. (Мещеринова), постоянного гостя страниц, рекламировал о. Георгия как одного из самых выдающихся историков ХХ века. Таким образом, со строгими фактами плохо по разные стороны. Оценочность, как говорят, «рулит». Что же касается потребности в комментировании, истолковании информации и построении логических цепочек между фактами и событиями, то с нею не следует воевать! Потребности в комментировании поистине колоссальны! Предмет анализа может быть сложным или простым, качество анализа может существенно различаться, стилистика и артикуляция могут быть более или менее уверенные, однако элемент гипотезы, личной интерпретации и авторского опыта всегда имеет место в публицистике. Коренным образом мнения различаются тем, что одни стремятся быть респектабельными и строго придерживаются официального комильфо, привлекая на свою сторону людей т.н. позитивного образа мысли или оптимистов, другие же располагаются как бы в трещинах или за фасадом официальной парадной вселенной, акцентируют внимание на противоречиях и потому больше всего пользуются доверием людей, именуемых реалистами. Объективно ли то или другое? Ценным является одно либо другое? Я думаю, что большинство людей довольствуется общим объяснением действительности, без проникновения в сложную философию и связи. Хотя, задним умом помнят: вплоть до 17 августа 1998 г. телевизор продолжал обещать: «Дефолта - не будет! Девальвации - не будет! Лягу на рельсы».
Встречаются темы, безусловно трудные и плохо поддающиеся пониманию отдельного человека. В таковых анализ, интерпретация часто граничат с произволом и фантазией эксперта. На полянах мировой политики, экономического кризиса, внутрикремлёвской кухни пасутся стада истолкователей разной степени респектабельности и осведомлённости. Точного, безоценочного и фактологически безупречного представления происходящего в Кремле или процессов в мировой экономике нет ни у кого. Но сами-то процессы есть наверняка! И заставляют о себе думать - из-за влияния, существенного, на жизнь каждого. Нелюбимым, ругательным словом «конспирология» характеризуется неизбежное и во многом естественное состояние общества, не понимающего закономерностей, по которым им управляют. Всякий человек, начинающий размышлять на темы политики, управления и экономики, - уже конспиролог и подчиняет своё мышление в большой степени соответствующим идеологиям и мифологемам: от «всё хорошо, прекрасная маркиза» до «караул, всё пропало», от «вашингтонского лобби» до «общества среднего класса» и «экономики инноваций».
Бывают, несомненно, Короли Политологии, такие как Владимир Познер, Александр Проханов и Михаил Леонтьев. Интервью с последним как раз недавно опубликовал у себя один внеидеологический и принципиально-неконспирологический православный журнал - «Фома». В строгом смысле, критики Михаила Леонтьева должны расценивать его творчество как «сплетне-версии». И возмущаться кухонному уровню. И это справедливо, поскольку за свою карьеру данный человек нагородил поистине чудовищный объем околесицы, куда там журналу «Благодатный огонь»! Хотя, с другой стороны, раз всё неясно, то не всё ли равно?! Часть зрителей остаётся недовольна присутствием на 1-м канале Леонтьева, другая часть - Познера. Но, в конечном итоге, из подобного положения можно хотя бы что-то понять! В то время, как из программы «Время» вынести для себя что-либо практически невозможно.
Ситуация в церковном смысловом и медийном поле в целом близка к этому же. Экскурс в психологию массовых коммуникаций я предпринял затем, чтобы каждый мог провести свои аналогии. Итак, актуальным для православных является свой, церковный социум, вложенный в «большой социум» и отчасти выступающий из него. В нём есть управление, в последнее время ставшее более выраженным, со своими реалиями, присутствуют также дипломатия и политика. Стало быть, есть место и почва для конспирологии и аналитики! Аналитики и конспирологии, как официальных, пользующихся сентенциями: «теснее сплотимся и пр.» - которой поддерживаются положительные установки и настрой оптимистов. И аналитики-конспирологии проблемно-ориентированных, представленных неофициальными источниками и истолкователями. Объективно ли то или другое? Ценным является одно либо другое? Я думаю, без фасада не обойтись, хотя в ближайшем приближении разные стороны церковной жизни с точки зрения анализа могут быть проблемизированы.
Уровень аналитики может быть разным, степень проблемизации тоже может быть разной - аналогично тому, как в светском употреблении об отношениях России и США в один момент могут сказать, как о «перезагрузке»; в другой раз укажут на неспособность американской администрации избавиться от рецидивов мышления «холодной войны», но могут, как это сделал один высший руководитель, и прямо обвинить Соединённые Штаты в нечестной игре и экспансии. Самое интересное, что все эти три представления являются действующими, и все три консенсусно отражают разные аспекты социальной практики. Но ровно таким же образом устроен и дискурсивный слоёный пирог в части основных церковных проблем, например, по отношениям с католиками. Утверждение о том, что Ватикан поступает двулично и в отношениях с нами привычно склоняется к игре с нулевой суммой, возможно, смотрится прямолинейно и лишает изящества дискурс внешне-церковных сношений. Но в общем смысловом контексте таковое валидно и имеет право на существование, без того, чтобы непрерывно сталкиваться и конфликтовать с параллельным утверждением о том, что Русская Православная Церковь ведёт конструктивный диалог с римо-католиками. Одно не исключает и не обязано вытеснять второго, если мы хотим более полного понимания происходящего. Затруднение в том, что в Церкви только начинает усваиваться логика многоуровневого, полихронного представления, тогда как ранее объем социальных вопросов был относительно невелик, и над всем царствовало единомыслие в восприятии вопросов догматических и канонических.
Я не первый год наблюдаю за тем, как растёт нетерпимость в отношении изданий, придерживающихся консервативной линии. Чем-то она должна была логически завершиться. И завершилась - запрещением журнала «Благодатный огонь». Большинство, однако, вряд ли объяснит, почему ему не угодили формулировки вроде: «работа по внутреннему разрушению Церкви», «ересь экуменизма» и «идёт планомерная борьба против Православия, против России». Говорить о заговорах, внешней экспансии и потрясениях на сегодняшний день просто немодно, не комильфо! Между тем, у многих людей короткая память. Приведённые фразы взяты отнюдь не из антицерковных, радикалистских источников, а из вполне официальных документов и обсуждений, включая доклады Святейшего Патриарха Алексия II на ежегодных Епархиальных собраниях 1997 и 1998 гг. Дискурс «Благодатного огня», таким образом, является действующим и церковным, кто бы что по данному поводу не говорил.
Вместе с тем, подача «Благодатного огня» заострена, журнал конфликтует с официальной иерархией и, в частности, настаивает на персональной виновности некоторых лиц (впрочем, нечасто, а только в некоторых и, по большей части, абсолютно необязательных заявлениях). Желаемая многозначность, многоуровневость представления этим травмируется. Но главное - это, чтобы проблемизация церковных вопросов, таких, в частности, как реформа и экуменическая деятельность, считалась принципиально возможной! А официальные органы, с позиции сильного не стремились утвердить свою точку зрения в качестве исключительной и единственной. В конце концов, спорят между собой не плохие и хорошие парни, не православные разных сортов, не «мэйнстримовцы» с «маргиналами», не «отсталые» с «передовыми» и не конспирологи с легалистами, как то предполагает конфликтный сценарий. Оптимистическая парадигма только частично отражает действительность, нуждаясь в дополнительной проблемизации, которую на официальном уровне, без посредства церковной полноты бывает непросто достичь.
Можно подытожить: и «Благодатный огонь», и журнал «Фома», и «Церковный вестник», и «Радонеж» - каждый несёт на себе печать человеческих несовершенств и, с точки зрения Божественной справедливости, в полной мере заслуживает «невыдачи грифа». Эта, на первый взгляд, безрадостная констатация заключает в себя неожиданно Радостную Весть! Если сложно понять и принять друг друга от заслуг и достоинств, мнимых серьёзности, объективности, актуальности и правоты, то от осознания несовершенств и относительности собственного опыта нам проще раскрыть объятья и пойти навстречу.












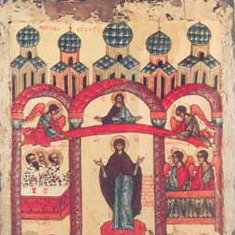
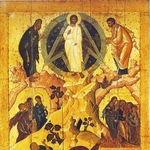








_1.jpg)



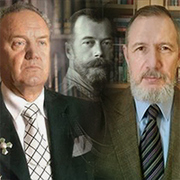
31. На № 23. Максиму Яковлеву
30. Re: Как «Благодатный огонь» и «Фома» могут раскрыть объятья друг другу?
29. Дело не в милости
28. На 21. Александра Ракова
27. Сельскому Бригадиру
26. 21. Александр Раков
25. На № 21. Александру Ракову
24. "Швецову"
23. Окончательное
22. Re: Как «Благодатный огонь» и «Фома» могут раскрыть объятья друг другу?