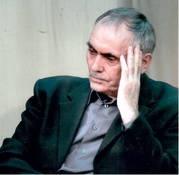Отцы-матери, старшие братья-сестры наши уходят, уходят, уходят...
 И скоро мы, дети войны, останемся единственными свидетелями великой народной драмы, скорбной и героической. И потому должны, просто обязаны рассказать о том, что видели своими глазами, чувствовали своими сердцами. Воспоминания наши скорее будут фрагментарны, память избирательна вообще, а детская - в особенности, но картины и лица, запечатлённые чуткими юными душами, смогут дать куда более яркие и выразительные представления о времени, людях, нежели сухие факты и цифры в изложении историков и краеведов.
И скоро мы, дети войны, останемся единственными свидетелями великой народной драмы, скорбной и героической. И потому должны, просто обязаны рассказать о том, что видели своими глазами, чувствовали своими сердцами. Воспоминания наши скорее будут фрагментарны, память избирательна вообще, а детская - в особенности, но картины и лица, запечатлённые чуткими юными душами, смогут дать куда более яркие и выразительные представления о времени, людях, нежели сухие факты и цифры в изложении историков и краеведов.
Допустим, можно сто раз, меняя эпитеты, называть военные годы в тылу суровыми, глухими, лихими, но всё равно это не перевесит впечатления от единственной живой «картинки» с её «говорящими» деталями. К примеру, такой...
Зима. В нашем доме холодно и сумрачно. За обмёрзшими окнами - седая пелена морозного тумана. Открывается тяжёлая дверь, и в избу входит, точнее как бы вплывает на белесом облаке мать, разматывает шаль, платок, тоже густо белые, заиндевелые, сбрасывает полушубок, садится на скамью возле печки и с трудом стягивает подшитые валенки, в которые заправлены толстые «шубные» штаны. Потом погружает красные руки в тёплую печурку и через плечо говорит нам устало:
- Не добрались до дров-то... Вернулись... Ярмо лопнуло от мороза, дровни уж сами вместе с быком едва дотащили...
Особых комментариев, думается, не нужно. Да, в лютые морозы, шальные метели деревенские бабы и подростки ездили за дровами в лес, за сеном в лога, где сугробы по пояс, и чаще не для домашнего, а для общественного, артельного хозяйства. Пахали, сеяли и жали... Не знали «ни выходных, ни проходных», старались из последних сил - для фронта, для победы... Сами недоедали, но поставляли родине, армии хлеб и картошку, мясо и масло, овчины на полушубки и кожи на обувь для бойцов и командиров, шерсть на варежки и валенки, а сверх того слали в посылках те же варежки-валенки собственного изготовления. Бескорыстного, с любовью, ради общего дела.
Простывали, обмораживались, надрывались на работе и нередко уходили до срока... И каково же сегодня нам, знавшим и видевшим это, слышать от разных бездельников и болтунов обидные, чёрные слова о воистину жертвенном поколении? Нет, мы должны защитить его, сказать о нём правду, иначе грош цена и нам, и нашим словам о жажде справедливости.
ДЕРЕВЯННАЯ ЛОЖКА
Мой старший брат Иван 19-летним пареньком добровольно ушёл на фронт, где вскоре погиб. И у меня от него ничего не осталось, кроме смутных воспоминаний да нескольких писем и фотографий. Впрочем, была ещё жёлтая атласная рубаха, которая теперь тоже стала воспоминанием, потому что я её давным-давно износил, и маленькая деревянная ложка, долгие годы хранимая в нашем доме.
Отчетливо помню то солнечное осеннее утро...
В нашей вдруг сразу ставшей тесною избе - людно, шумно, дымно. Я пробираюсь в толпе чужих людей, касаясь чьих-то сапог, раздвигая полы чьих-то пальто и полушубков. Остро пахнет кислой овчиной и паровым дёгтем. Мне нужно протиснуться к стене, к широкой лавке. На ней стоит эмалированный таз, с верхом полный сияющих деревянных ложек. С трудом приблизившись к ним, я протягиваю руку и хватаю первую попавшуюся. Но она мне кажется слишком большой и неуклюжей, вроде кухонной поварёшки. Тогда я начинаю нетерпеливо перебирать все ложки, какие есть в тазу. Они глухо побрякивают о стенки и друг о дружку, становятся вверх черенками, заострёнными, как пики, падают со стуком на лавку.
Наконец, моё внимание привлекает маленькая, плосковатая, золотисто-лаковая ложка с черной каёмкой. На тыльной стороне её красный полумесяц, который мне сразу почему-то напомнил о нарядной дуге праздничной лошадиной упряжки. Я крепко зажимаю ложку в руке и, радостный, прорываюсь к матери:
- С конюшкой, с конюшкой, это будет моя!
Но в ту же минуту народ, загалдев ещё громче, пёстрой лавиной
устремляется к двери. И мать, не слыша меня, выходит вместе со всеми. Мне, оттесненному к печи, приходится пережидать, пока все выйдут. Тут я спохватываюсь, что надо одеться, начинаю метаться по избе в поисках фуфайки и шапки, а когда выбегаю на крыльцо, то вижу, что двор уже пуст.
Калитка полуоткрыта. Я подлетаю к ней, но она вдруг с силой захлопывается перед самым моим носом, раздается сухой треск, кажущийся мне пронзительно резким, как вскрик, и я обнаруживаю с ужасом, что от золотистой ложки с «конюшкой» остается в руке только обломок тонкого черенка с чёрным наконечником. Я отчаянно реву, с болью разглядывая нелепый обрубок, но никто не слышит меня, никому до меня нет дела. И мне невольно приходится умолкнуть, потому что и при самом большом горе без сочувствующих нет смысла реветь на всю округу.
В это время с привычным звоном щеколды открывается калитка, и старшая сестра подхватывает меня на руки.
Напротив моста, возле наших соседей Филимоновых, стоит грузовая машина с тускло-зелёным кузовом. Наискось от неё падает чёрная тень. На соломинках, прутиках, щепках, рассыпанных там и сям по земле, на затвердевших за ночь коровьих лепёхах поблескивает на солнце стеклянно-голубой иней. В кузове сидят и стоят незнакомые мне люди. Я знаю только одного из них - высокого, русого дядю Елизара Филимонова, часто бывавшего в нашем доме. Он до пояса свесился из кузова и что-то торопливо говорит, говорит плачущей с причётом тётке Аксинье, своей жене. Шапка с загнутыми вверх, но не связанными клапанами сдвинулась у него на самое ухо и, кажется, чудом висит на нём. Мне, только что перенёсшему горе, становится не по себе от надрывного плача тётки Аксиньи, такая накатывает на меня тоска, что я, силясь сдержать набегающие слёзы, сжимаю до ломоты зубы и начинаю часто-часто моргать глазами.
- А где Шурка, Шурка где? - кричит мать.
Мне хочется откликнуться, что вот он я, здесь, но слёзы уже подкатили к
самому горлу, спазмой сдавили его и не дают мне даже пикнуть. Я только крепче сжимаю зубы и молчу. Но вот из толпы идёт навстречу мой братка Иван. Высоченный, он приседает на кукурки, чтобы сравняться со мной, бережно и вместе с тем порывисто обнимает меня за шею, тискает и мусолит мне ухо горячими влажными губами. Краем глаза я вижу, как вздрагивает его широкая чёрная бровь. Потом он поднимает меня на руках высоко над пестрой толпой людей и даже над машиной - и на его лице замирает сдержанная, как бы виноватая улыбка.
Прежде того дня и после него я никогда не видел брата. Не помню. Это было моё единственное свидание с ним, запечатленное детской памятью.
А из всего, что я слышал о нём позднее от отца, матери, сестёр, от всех этих рассказов остались только скупые сведения: окончил семилетку, работал трактористом в колхозе, был скромен, не курил, не пил, не дрался, перед самой войной просил «по секрету» мать, чтобы она разрешила ему жениться на Тоньке Уваровой, чернявой, как цыганка, девчонке, но мать отговорила его от этого шага, о чём потом часто сожалела...
До сей поры, перечитываю ли я фронтовые письма брата, разглядываю ли поблекшие, надломленные фотографии, слышу упоминания о нём от родных или друзей, я неизменно вижу его тем, единственно знакомым мне, - высоким, черноволосым, с растерянной и как бы виноватой улыбкой на губах.
Уже потом, через годы, восстановив в памяти эту картину из детства, я спросил мать о странных деревянных ложках. Что это были за ложки? И были ли они вообще? Мать молча кивнула, как будто ждала от меня этих вопросов. Подняла крышку ящика и, отодвинув свёртки белья, платьев, тканей, которые зачем-то лежали там годами без всякого проку, с самого дна, откуда-то из угла вынула деревянную ложку. Точно такую, какую я выбрал когда-то в тазу: золотистую, с чёрной каёмкой и с красной «конюшкой» на тыльной стороне.
- Вот твоя ложка, - просто сказала мать.
Я оторопел:
- Но ведь ту ложку... тогда в воротах...
- Знаю, - сказала мать. - Брат тоже знал эту историю. Ему рассказала Марфуша там, у машины. Ваня просил сохранить похожую ложку и вручить её тебе, если он не вернётся и не подарит сам. Теперь уж, видно, не вернётся... не подарит...
А таз с ложками попал в нашу избу вот каким путём.
В ночь перед тем памятным осенним утром, когда брата Ивана провожали на фронт, мать вернулась из города. Она ездила к отцу на свидание и возила гостинцы. Отец, ранее призванный на войну, проходил там недолгие боевые учения, прежде чем отправиться на передовую. В колхозе матери наказали, чтобы по пути закупила в городе побольше деревянных ложек для ясельных ребятишек.
- Слыхала, такая примета есть: сломать ложку - к несчастью. Как видишь, с той ложкой мы потеряли одного едока, - частенько потом говаривала мать, ставшая суеверной.
В войну многие женщины стали суеверными, но одновременно и - верующими. Когда мы, ребятишки, ложились спать, даже не отличавшиеся прежде набожностью матери заставляли нас молиться за отцов и братьев. И пусть не все наши молитвы дошли до неба, они были не напрасными. Хотя бы для нас...
КАЛАШНЫЙ УРЯД
А память былое выводит
Расплывчато, будто сквозь дым:
Деревня... Военные годы...
Похлёбка из лебеды....
...Замерло цоканье копыт по скованной земле. У нашего дома остановилась лошадь. Телега, накатив, ударила оглоблей в ворота. Но открылись не они, а распахнулась настежь калитка со скрипом, протяжным и звонким, как гусиный крик.
Мать с Марфушей, моей старшей сестрой, в одинаковых серых шалях и фуфайках, внесли мешок, бережно держа его за углы. Мешок мягко лёг на каменную плиту у завалинки и разом осел, заметно опал, будто с устали выдохнул воздух. А телега с возом таких же мешков двинулась дальше по деревенской улице. За повозкой, точно за катафалком, тихо шли молчаливые женщины.
- Ну, вот и всё. Заработали хлебушка, - устало сказала мать и захлопнула калитку.
Я подбежал к мешку и с восхищением стал ощупывать его впалые бока. Сквозь грубое рядно проглядывали красноватые зёрна. «Ого, целый мешок пшеницы!», - дивился я, ибо прежде не видывал в нашем доме столько хлеба сразу.
Мешок зерна заработали сестра с матерью в колхозе.
За зимнюю до Рождества молотьбу на трескучем морозе, за рубку леса в
таёжных снегах, за круглосуточную посевную страду, где сестра была трактористкой, а мать - сеяльщицей, за скошенные литовкой гектары трав и поставленные по логам сенные зароды под палящим солнцем, за срезанные серпами и грабками нетучные колосовые... целый мешок хлеба!
Я гордился тем, что была в нём и моя горсть зерна, потому что лето и я не сидел без работы - возил копны на старой хребтастой кобыле.
Война... Все для фронта. Настоящий хлеб на селе видели только раз в году, когда школьники приносили с новогодней ёлки кулёк подарков - калачик, крендель, шаньгу с творогом.
Впрочем, был в деревне народ, которому везло больше.
...Я лезу под ясельные ворота, повизгивая, как щенок. Мне уже удалось просунуть голову, я почти на свободе, но вдруг тяжёлая подворотня падает мне на шею, и я застреваю, точно в ловушке. На мой рёв с высокого крыльца бежит на помощь воспитательница тётя Ариша, из полуподвальной кухни выныривает лёгкая на ногу повариха тётка Настасья. Они освобождают меня и уводят к ребятишкам.
Однако к вечеру я всё же удираю из яслей, проделав брешь в старом тыне. Я становлюсь, наконец, свободным человеком. Но мать огорчена. Она с утра до ночи на молотьбе. Марфуша и вовсе не появляется дома, даже ночует на пашне. Другая сестра, Валюха, ходит в школу. Отец воюет на фронте. Так что водиться со мной совершенно некому.
- Совсем распрягся парень наш, - говорит, вздыхая за ужином,
раздосадованная мать.
А наутро меня отправляют к Кощеевым. У Кощеевых ребятишек много и никто из них в ясли не ходит. Отец-инвалид, дядя Макар, и мать, тётя Саня, работают в колхозе, а ребятишки хозяйничают одни, домовничают, управляются со скотом, с огородом, бегают купаться на Тимину речку, к колодцу-кипуну. Такая жизнь меня вполне устраивает.
Однажды вечером, когда я возвращаюсь от Кощеевых домой, возле колхозных яслей меня встречает сухонькая тётка Настасья, вынимает из-под фартука большущий калач и прячет мне за пазуху.
- И завтра приходи, - шепчет мне на ухо, точно по секрету.
Дома мы едим только драники и травяники. Драники - это лепёшки из тёртого картофеля, чуть сдобренные мукой. А травяники - такие же лепёшки из картофеля и травы, рубленной в корыте. В травяники годится и щавель, и кислица, и лебеда, и даже обыкновенная жгучая крапива. Бывает в них тоже и горстка муки, добавленной не столько для вкуса, сколько хотя бы для связи. Травяники куда хуже драников. Они пустые, как солома, и никакой сытости от них не бывает, одна тяжесть в желудке.
Поэтому калач мне кажется удивительно вкусной штукой. Он пшеничный. Испечён на поду. Нижняя корочка поджарена, прокалена до орехового оттенка. В трещинах, напоминающих линии судьбы на ладони, припеклась зольная пыльца, тонко и тепло пахнущая русской печью. Кое-где вкрапились древесные угольки, наподобие изюминок. Верхняя корка на вид бледновата, она припорошена мучицей, но тоже пропечена хорошо, даже похрустывает при надкусывании. Когда калач раскатывали и потом загибали в круг, на нём появились винтообразные морщинки, заполненные мукой. И если корку аккуратно облизать, то они выступят особенно отчётливо, вроде полосок на карамельке.
Калач, хотя он и не мал, можно, конечно, съесть разом, еще по дороге домой, и это тоже будет вкусно. Можно - за ужином, с горячим картофельным супом. Можно сжевать в постели, закрывшись с головой одеялом, и если рано заснешь, то еще кусочек останется на утро. Но лучше всего съесть калач вечером за воротами. Накинуть материну фуфайку, надёрнуть валенки на босу ногу и выйти на улицу, когда солнце уже закатилось, но еще стоит в полнеба заря. Прислониться к гудящему, как самовар, телеграфному столбу и отщипнуть, не вынимая руку из кармана, первый кусочек с корочкой. Он отстанет от калача с лёгким треском, услышав который, предощутишь тонкий, ни с чем не сравнимый хлебный аромат.
Тяжело дышит сушилка за деревней. У сельмага галдят ребятишки - играют в «золотые ворота».
Золотые ворота,
Пропустите меня,
Я и сам пройду,
И друзей проведу...
Из бригадного проулка вываливает табун лошадей, направляясь в ночное. От пыли, что стелется по дороге, лошади фыркают, мотают головами, и колокольчики захлёбываются, сбиваясь с ритма. Конюх нащёлкивает с присвистом бичом. Вот на небе в южной стороне зажглась первая робкая звезда. Вернее, она еще только зажигается: то вспыхнет, то погаснет, как свеча, задуваемая ветром. А столб всё гудит далёким загадочным гудом, принесённым в нашу деревню за тысячи вёрст, и тревожно вздрагивают провисшие за лето провода.
Отныне на исходе каждого дня я осторожно подхожу к ясельному дому, склоняюсь над низким окном полуподвальной кухни и козырьком прикладываю руку. Длинная тень сбоку меня тоже делает взмах. Палец мой потихоньку клюёт по стеклу. Открывается створка - и тётка Настасья снова подаёт мне калач. Точно такой же, как в первый день и как во вчерашний, - тёплый, шершавый калач, чуточку присыпанный мукой. И я снова прячу его под рубаху. Я умею хранить секреты. Мне еще не известно, что моя фамилия чёрным по белому значится в длинном списке колхозных ребятишек, зачисленных на ясельное довольствие, ребятишек, чьи отцы ушли на фронт. А под списком имеется строгая подпись самого председателя колхоза.
Теперь я доподлинно знаю об этом. И понимаю, сколько бы ни старался отплатить добром за добро, буду в вечном долгу перед теми, кто, живя впроголодь и работая до упаду, приберегал лучший кусок для нас, детей военного поколения.
УГЛЕЙ
Положим, ситуация такова: посылает вас жена к соседям с каким-нибудь поручением - денег занять до зарплаты (в день получки вернём), кисть попросить перед беленкой (ковыль вырастет - отдадим) или там противень в разгар предпраздничной стряпни, а вам идти не хочется, вы можете возразить вполне солидно и даже как бы с благородным возмущением:
- Ага, сейчас пойду, как тот Углей, маячить под окошками!
И вас если не оправдают, то поймут в нашем Таскине.
...Жила в деревне, на углу школьного переулка, семья Лыковых. Отец у них на фронте погиб, мать осталась с тремя ребятишками мал мала меньше, старшему - семи не было. Хватили они мурцовки досыта. Три рта накормить - не мутовку облизать, успевай поворачиваться. Лычиха же не отличалась ни особым проворством, ни доходным ремеслом - школу сторожила. Велик ли заработок у сторожихи! И уж если всем несладко приходилось в те послевоенные годы, то Лыковым - подавно. Одна фуфайка - на четверых. Дровишек в запасе - ни полена. То вязанку в школе вырядят, то свой огород по пряслицам разберут, который весной загородили с горем пополам, то щепок, обрубков на стройке соберут - тем и топились. Сущая беда и с растопкой печи была: огня в доме не водилось - ни спичек-серянок, ни даже уголька в загнетке. Каждое утро, наломав кой-каких палок через колено, Лычиха снаряжала Шурку-старшего к соседям «за жаром». И Шурка, золотушно-подслеповатый, щупленький, нахохленный под стать своему домику парнишка, набрасывал длиннющую, в заплатах фуфайку и трусил по деревне в поисках горячих углей.
Во дворы не заходил по своей робости. Свернёт к избе, над которой дымок курится, взберётся на завалинку, приоткроет ставню и вскрикнет коротко: «Углей!» - а сам спрячется тотчас, прижмётся спиною к простенку.
Многие сельские хозяйки уже знали, что этот ранний голос невидимки принадлежит Шурке Лыкову, и выносили ему тлеющих углей. Шурка торопливо пересыпал их в свой совок и, на ходу раздувая жар, пускался вприпрыжку домой - печь растоплять, сестрёнок младших отогревать, нехитрый завтрак варить. Так и прозвали мальчишку в деревне странноватым прозвищем - Углей.
...Прошло немало лет с тех пор. И вот однажды довелось мне участвовать в литературном празднике, проходившем в южных районах края. В клубе идринского села Катериновка подошёл ко мне ладный кудреватый мужчина, с портфельчиком, при галстуке, и как-то по-свойски тронул за плечо:
- Не узнаёшь?
- Углей? - непроизвольно вырвалось у меня.
- Он самый. В сотне вёрст отсюда поисковая партия стоит. Ведём нефтеразведку. Я буровым мастером работаю. Книги со школьных лет люблю, особенно - про деревню. Летом походную библиотечку вожу в чемодане. Узнал вот про литературные встречи в районе, решил съездить, послушать, что нового писатели пишут, о чём читатели говорят... А в наших родных местах давненько уж не бывал. Вот бы описать, как мы жили там когда-то, нужду маяли и как люди добрые нам на ноги встать помогли. Говорят, в селе моё детское прозвище поныне в ходу, про него целую байку сложили...
- Углей! - вскрикнул он вдруг тоненьким, пугливым голосом и рассмеялся с грустью в смородиновых глазах.
СПАСЁТСЯ РУСЬ ПЛАТОЧКАМИ...
Увидел недавно картину в глубинке, казалось бы, не очень и примечательную, но словно пришедшую из полузабытого прошлого. Катилась неспешно телега просёлком, влекомая седлистым Сивкой-Буркой с лохматыми бабками. Торчали из накидашки деревянные грабли и вилы. Правил лошадкой прокопчённый на солнце «тинейджер» с облупленным носом, а за телегою молча брели три женщины в белых платочках. И вдруг с неожиданной ясностью всплыло в памяти одно далёкое-далёкое воспоминание из деревенского детства...
Июньское солнце стояло уже довольно высоко над зелёными лесами и косогорами, но было прохладно. Кутаясь в длинный пиджак, я сидел в передке рыдвана на поперечной доске, рядом со старшей сестрой Марфушей. Она в то лето была поварихой в тракторном отряде. Посевная закончилась, однако трактористы и прицепщики, в большинстве фронтовики-полукалеки да жидкие подростки, по-прежнему работали в поле с ночевой - усердно латали скудную технику, начинали пахать пары. И потому мы везли им не только лагун свежей воды из нашего колодца, мешок колхозной картошки для приварка, но и целый ворох собранных по домам пахарей котомок и корзинок, содержимое которых, впрочем, не отличалось большим разнообразием. Война отгремела, враг был разбит, победа была за нами, но голодуха не спешила сдаваться на милость победителей: вместо хлеба по-прежнему потчевала их картофельными драниками да травяниками с примесью щавеля и лебеды.Марфуша правила быком Проней, безрогим и потому запрягаемым «по- конски», то есть не в ярмо, а в лошадиный хомут. Был на нём также недоуздок с вожжами, но Проня не отличался поводливостью, всё норовил свернуть в сторону и хватануть пучок придорожной травы, потому за ним нужен был глаз да глаз. Мне же, восьмилетнему пацану, сестра поручила следить за поклажей, чтобы ненароком не вывалилась какая котомка сквозь решетку рыдвана да не опрокинулась корзина с торчащей из неё бутылкой с молоком или квасом. Так что я тоже был при деле, поминутно оглядывался на эти корзинки-котомки, на колеистую дорогу за телегой и удовлетворенно отмечал, что там, слава Богу, всё в порядке.
Но вот впереди послышались тревожные женские крики. Я привстал, чтоб из-за Прони увидеть, откуда они исходили. Кричали три женщины в светлых косынках, стоявшие на обочине. Я и прежде видел их, поодаль шагавших по дороге с вилами и лопатами на плечах. Они, должно быть, шли чистить старую силосную яму, расположенную в соседнем ложке. Но теперь, когда наш расторопный Проня стал нагонять их на пологом подъёме, они отошли в сторону, уступая нам путь, и вдруг замахали руками, визгливо закричали что-то вразнобой. Мне подумалось - уставшие женщины просят, чтобы мы подвезли их. Но вскоре разобрал, что они обеспокоены какими-то травяниками, и машинально еще раз окинул взглядом вверенный мне воз корзинок и торб. Там по-прежнему всё было на месте.
Марфуша первой догадалась, в чём дело.
– Кажись, растеряли мы еду-то! Куда смотрел, ротозей? - упрекнула она меня, резко остановила Проню, бросила вожжи и, соскочив с телеги, побежала по дороге назад.
Теперь и я, наконец, заметил, что вдалеке между колеями действительно виднелась целая цепочка лепёшек темно-табачного цвета - не то драников, не то травяников. Сестра подбежала к ним, нагнулась и вроде бы взяла один из них, но почему-то быстро отдёрнула руку, потрясла ею в воздухе, словно обжегшись, и затем, не подобрав остальных, быстро пошагала к нам. А когда приблизилась, я увидел, что рука, которую она держала на отлёте, измазана чем-то густо-зелёным.
– Никакие это не травяники, - сказала она, натянуто улыбаясь, - Пронины лепёшки... Подсохли сверху... Видать, вчера ещё напёк, толстопузый. Он же частенько перед этим тянигусом опрастывается.
Проня в этот момент, точно в подтверждение сказанному, приподнял хвост, напрягся и - стало уже предельно ясно, за что схватилась рукою Марфуша, приняв зеленоватые кружки за травяники. Женщины тоже поняли свою оплошность и принялись хохотать, держась за животы и качая головами.
- Полей-ка мне из лагушка, - попросила меня сестра. А когда помыла и вытерла руки о фартук, добавила, обращаясь к бабам:
- Дожили, что уж хлеб свой от дерьма не отличаем...
Женщины, нахохотавшиеся до слёз, снова было зашлись в приступе смеха, но тут же, словно опомнившись, разом приутихли и стали молча утирать глаза платками и рукавами. А старшая из них, Фотинья Алтынцева, наша соседка, со вздохом сказала в наступившей тишине:
- Да и верно, девки, над чем потешаемся-то, глупые? Тут впору хоть...
И вдруг зажмурилась, затрясла головой уже не от смеха, а от беззвучного плача, и по щекам её покатились другие, горючие слёзы. Подруги стали успокаивать её, но губы их тоже кривились горестно и спины вздрагивали от сдерживаемых всхлипов. И вскоре они, побросав свои лопаты и вилы, обняли друг дружку за плечи, увлекли в свой печальный круг Марфушу и заплакали, зарыдали, уже не сдерживая себя, на все четыре голоса, заунывно и слёзно.
У меня тоже стало горько на душе, и чтоб не разреветься вместе с бабами, я спрыгнул с телеги, по-мужицки заботливо обошёл кругом Проню Безрогого, поправил недоуздок, потрогал потник хомута, тяжи и даже, подражая шофёрам, зачем-то попинал колесо, хотя оно было деревянным. Потом вернулся в рыдван, сел на плашку и взял в руки вожжи.
Видимо, мой деловитый настрой передался Проне, он повернул ко мне морду, передернул толстыми ушами и стронул телегу с места. Марфуша, увидев это, высвободилась из-под рук плачущих женщин, махнула им на прощанье и, догнав повозку, уселась рядом со мной. Но вожжей из моих рук брать не стала.
А удалявшиеся женщины в белых платочках ещё долго стояли кружком, приобняв друг дружку, и плакали безутешно. Должно быть, не только по этой глупой ошибке с травяниками - своим хлебом насущным, столь похожим на Пронины лепёшки, но и по всей незадачливой крестьянской жизни, по своей бабьей доле, тягостной и беспросветной.
...Ныне снова село обеднело. «Железные кони» стали крестьянам не по карману, и, похоже, они понемногу возвращаются к гужевой тяге. Пока - лошадиной. Но, гляди, захомутают и Проню Безрогого. А там, чего доброго, вернутся и к хлебу насущному, неотличимому от... Впрочем, хочется верить, что выправится хлебодарное и хлебосольное село, а с ним и вся страна наша. Может, «спасётся Русь платочками», как уже бывало с нами по предсказанию святого отца, великого молитвенника за Отечество. А, может, спасут и выправят его нынешние «тинейджеры», сельские мальчишки, когда подрастут. Я, по крайней мере, с надеждой передаю им в руки вожжи, которые когда-то доверила мне, отроку, старшая сестра Марфуша, беззаветная труженица-крестьянка, Царствие ей Небесное...
Красноярск