
Книга преосвященного Меркурия, еп.Зарайского, «Поле жизни» представляет цепь очерков, посвященных старцам и подвижникам благочестия Псковской Земли. Она находится в русле агиографического жанра, который, к сожалению, в последнее время не столь популярен. Современные церковные публицисты предпочитают разговор о молодежи, о «социальном богословии», о злободневных церковных вопросах, о столичных проблемах и т.д. и временами забывают о русском поле, о той глубинке, которая и питает русскую церковную (и не только церковную) жизнь:
В столице шум, гремят витии.
Кипит словесная война.
А здесь, во глубине России,
Все та же, та же тишина.
И книга владыки Меркурия предоставляет драгоценную возможность эту тишину послушать. Написана она прекрасной благоуханной прозой. Не могу не удержаться, чтобы не привести небольшой отрывок из вступления: «Дивное русское поле! Нет ему подобных. Оно одно только - полное отображение красоты творения и безграничного Промысла Божия о мире. Здесь есть место всему: и полевым цветам, и сорнякам, и траве-мураве, и застенчивым колокольчикам, которые боятся робким звоном своим потревожить покой чудом проросших рядом колосьев пшеницы...». Само название книги символично: оно апеллирует к древней традиции «Луга Духовного», «Живого колоса», «Духовного Сада», и тем самым, свидетельствует о непрерывности, преемстве народной и церковной жизни, в т.ч. и в советский период.
Каждый из рассказов можно уподобить духовному цветку. Вот рассказ о ныне здравствующем схиигумене Илии. Емко и точно описан его духовный облик: «Высота смирения и внутренняя постоянная молитва столь же характерны для него, как умение дышать, слышать и видеть. Даже когда он говорит, то не перестает молиться. Общаясь с ним и рассказывая о своей жизни, поймал себя на мысли о том, что я его ни о чем не спрашиваю...»[1]. Невольно вспоминаются слова Спасителя из Евангелия от Иоанна: «В тот день вы не спросите меня ни о чем» (Иоанн, 15, 25). Удивительна неосудительность и чистота взгляда о. Илия: он не заметил (или сделал вид, что не заметил) несколько легкомысленные пасторальные изображения на дорогом сервизе, которые некий игумен в простоте душевной выставил для него. Действительно, Божий человек на грешной земле...
Глубоко проникает в душу рассказ об архимандрите Вадиме (Малиновском), человеке, который служил в трудных сельских условиях, будучи тяжело больным: «Он никогда не считался со своим здоровьем. Мог в любую погоду, при любом самочувствии идти причащать больного, или пойти на погребение. Часто с температурой, надев на себя неимоверное количество теплых свитеров и шерстяных кофт, он шел служить в нетопленый храм. Служение Богу и служение людям были для него всем. На себя ничего не оставалось. И времени, чтобы заняться своим здоровьем, тоже. Так продолжалось до той поры, когда однажды, во время очередной простуды, закашлявшись, он не увидел, что горлом пошла кровь...». О.Вадим (Малиновский) явил удивительное бескорыстие и монашескую нестяжательность: «Он не позволял себе купить новую рубашку, пальто, или что-то из обуви, считая, что ему всего достаточно. Но при этом мог отдать последнее на строительство или жертву на монастырь, или помочь нуждающемуся».
Невольно вспоминается «Война и мир» и ее герои - те простые русские люди, которые без лишних слов жертвовали всем для Веры и Отечества и русского народа. Если в рассказе об о.Илии автор говорит о нем, как о последнем осколке прежней православной России, то в рассказе об о. Вадиме он показывает, что эта Россия жива - в том числе и тех добрых пастырях, что в прямом смысле полагают душу свою за овцы своя.
Глубок и трогателен рассказ о матушке Марии - слепенькой старушке, исполненной великой духовной силы и прозорливости, которая предсказала владыке Меркурию его дальнейший путь. Автор задается вопросом: «Какою силой обладала эта немощная женщина, что прикосновением своих рук принимала в них людские тяготы? Как могла она, будучи незрячей, видеть все, что происходит в человеческом сердце? Как могла, будучи на земле, созерцать Небесное и молитвенно беседовать со святыми?». Тот, кто общался с блаженной Любушкой, жившей в Сусанино и с иными подвижницами благочестия, тот может засвидетельствовать жизненность и действенность такой святости и в наше время. Воистину - явление Великого в малом, Силы Божией среди немощи человеческой.
Рассказ об отце иеромонахе Геннадии (Собственникове) показывает, что Церковь - это действительно общение со святыми и общение святых. О.Геннадий - подвижник благочестия, узник сталинских тюрем, в годы войны cлуживший в Псковской области и почисленный за штат после войны - скончался за год до рождения автора. И тем не менее владыка Меркурий, молитвенно обращаясь к нему, постоянно чувствовал его духовную помощь, его духовный покров. Для него о. Геннадий был и остается живым: удивителен, но несомненно достоверен рассказ о явлении о.Геннадия в тяжелую для автора минуту. «Я почувствовал на своей голове его руку: крепкую, натруженную руку, но очень добрую и ласковую. Он гладил меня по голове и все осенял крестным знамением:
- Детка моя! - сказал он тихо-тихо... - Птичка себе гнездышко на деревце веточками вьет, а человек местечко в Царствии небесном себе готовит принятием Святых Христовых Таин. Причаститься тебе надо, и все успокоится. Причаститься тебе надо!».
Рассказ о духовной дочери о.Геннадия, послушнице Анне, являет то, о чем говорил некогда говорил один архиерей: «Я-то думал, что Церковь стоит на белых клобуках, а стоит она на белых платочках». На таких подвижницах благочестия, исповедницах и страдалицах выстояла Церковь в довоенных гонениях, во время войны, в годы хрущевских преследований. Они смогли сохранить веру Христову и зажечь ее в своих детях и внуках.
При слове «митрофорный протоиерей» у нас чаще всего возникает ассоциация с чем-то очень важным, столичным и недоступным. А рассказ «При дверях вечности» о митрофорном протоиерее Николае Петровиче Гордееве и его матушке Стефаниде Ивановне показывает обратное: к нему запросто мог прийти утром Пасхи соседский мальчишка для того, чтобы похристосоваться. И уставший с ночной службы протоиерей и его матушка принимают этого мальчика как самого дорогого гостя. Эта простота, сердечность вырастает из великой любви к Богу и людям, которая открывает духовные очи. Нельзя без волнения читать повествование о предсмертных минутах о.Николая, когда он говорит своей матушке о дне Ангела: «Знаешь, матушка, служить не буду, но в храме в этот день мне Господь благословил быть...». Так и произошло: в Николин день хоронили о. Николая.
Однако, пророчество - не только прозорливость, но и обличение людских грехов.
Вот лишь один эпизод. Непрестанно льют дожди, гибнет урожай. Злой и раздраженный народ входит в автобус. Среди них - о. Николай, которому из-за интриг уполномоченного приходилось ездить на службу за 50 км от дома.
«Все молчали. Это молчание становилось грозовым. Стоило произнести одно неловкое слово, задеть им кого-либо и в салоне автобуса заблистали бы настоящие молнии. Водитель счел возможным использовать в качестве громоотвода отца Николая.
- А что, батюшка, дождь-то вон как льет...
- Да, родный, льет, - без особого желания продолжать разговор ответил о. Николай.
- Люди говорят - будет второй Всемирный потоп... - не унимался водитель.
- Нет, не будет.
- А почему это, батюшка, Вы так уверены, что не будет?
А потому, родный, что грехи наши водой не зальешь. Наши грехи и злобу только огнем можно выжечь...
До конечной остановки никто не проронил ни слова. Это была воистину пророческая проповедь!»
Отметим, какая бездна между этими пророческими, пастырскими словами и злыми стихами Георгия Иванова, которые весьма сочувственно цитируют некоторые православные публицисты:
«Россия тридцать лет живет в тюрьме. На Соловках или на Колыме. И лишь на Колыме и Соловках Россия та, что будет жить в веках. Все остальное - планетарный ад: Проклятый Кремль, безумный Сталинград. Они достойны только одного - Огня испепелящего его».
И понятно в чем различие... Слова о. Николая останавливают злобу человеческую, а стихи Георгия Иванова ее умножают. Для порховского священника грешники - это «мы», его родные прихожане, грешные, но любимые чада, а для эмигрантского поэта - далекие «они», враги на которых он из-за океана призывает атомный огонь.
Книга касается многих злободневных проблем и грехов нашего времени. Один из них - иудин грех, грех предательства (рассказ «Неслучайная встреча»). Для многих неожиданно то, что в его призме автор рассматривает эмиграцию. Многие из нас помнят глумливую присказку конца восьмидесятых-девяностых годов: «Самое дорогое для человека - это жизнь. Она дается один раз и ее надо прожить там, чтобы не было стыдно, чтоб не жег позор за бесцельно прожитые годы». И автор показывает, что для многих и многих эмиграция и явилась «бесцельно прожитыми годами», проведенными в нужде и унижениях ради призрачной мечты о сытой и обеспеченной жизни. Страшен рассказ о польском священнике, который ради эмигрантских иллюзий бросил свой приход в Польше, предал служение у престола Божия, и за это ему пришлось работать грузчиком в пиццерии, пресмыкаться ради заморского куска хлеба. Вспоминаются слова о. Иоанна Крестьянкина об одной знакомой нам эмигрантке: «О М. умолчу. Что посеет человек, то и пожнет... А беда повсюду идет, и ни в какой Америке от нее не спрячешься».
Особенный отклик вызывают рассказы об о. Иоанне Крестьянкине - действительно «всероссийском солнышке». К воспоминаниям владыки Меркурия хотелось добавить и свои. От общения с о. Иоанном оставалось не только удивительное общее светлое впечатление, но временами и конкретные, удивительно трезвые, ясные и своевременные наставления. Он чутко чувствовал и дух человека, обращавшегося к нему, и дух времени. Вот лишь одно из его вразумлений: «Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно... Вот, Володенька, не будем наполеоновскими планами заниматься. Потихоньку, полегоньку. Никого не осуждать, никого не раздражать и всем мое почтение».
Несмотря на личностный характер текста, его автор старается скромно держаться на заднем плане, стремясь, как хороший иконописец, запечатлеть то сияние святости, которое исходит от его героев. И тем не менее о нем можно многое сказать. Он человек, взыскующий истины и благодати Божией. Он - почвенник и государственник, не закрывающий глаза на грехи и беды России, но делящий их со своим народом. И, наконец, он - сердечный и откровенный человек, не боящийся поделиться самым дорогим и сокровенным.
И в завершение - еще одна мысль о заглавии. «Поле жизни» в переводе на греческий звучит так: «хора тис зоис». А отсюда - один шаг до «хора тон зонтон» - страна живых. Так в поздней Византии называли Господа Иисуса Христа - «Иисус Христос хора тон зонтон» (Иисус Христос, страна живых) и посвященную Ему Церковь в предместье Константинополя. И Россия действительно - страна живых, живых духовно во Христе. Историческая Россия действительно жива, что бы ни говорили авторы черных книг, украшенных безнадежно бледными лицами. Смотрю на зеленую книжку с таким жизнеутверждающим названием «Поле жизни» и на душе становится спокойно и светло. Воистину «Воскресе Христос и жизнь жительствует».
[1] Поле жизни. С. 20.







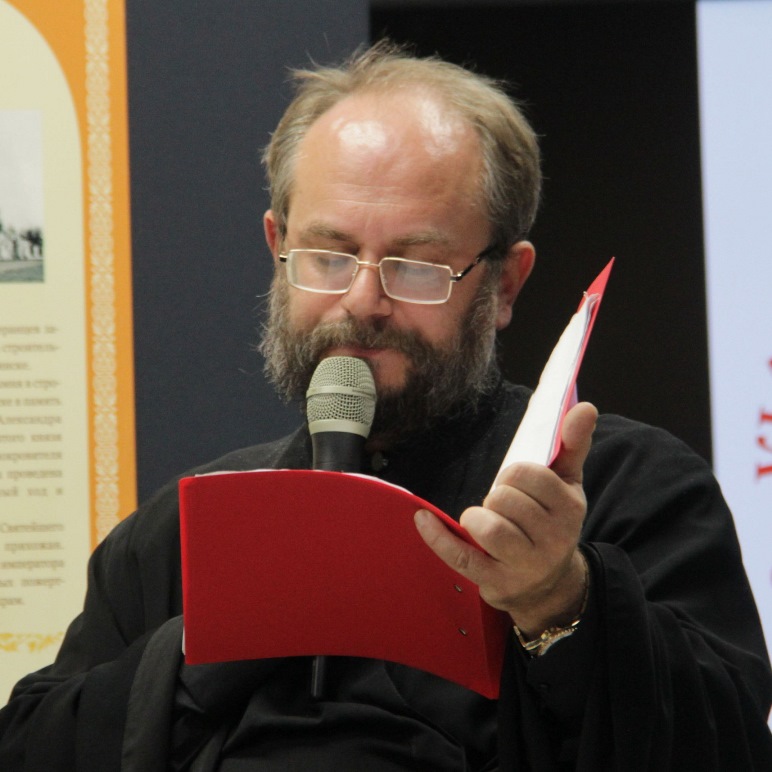













2. Re: Страна живых
1. Ракову и другим. Лучшее враг хорошего.